Предпосылки возникновения спасательного дела на Мурмане. Часть первая.

Мы говорим не «штормы», а «шторма» — Слова выходят коротки и смачны.
«Ветра» — не «ветры» — сводят нас с ума, Из палуб выкорчевывая мачты.
Мы на приметы наложили вето —
Мы чтим чутьё компасов и носов.
Упругие, тугие мышцы ветра
Натягивают кожу парусов.
В. С. Высоцкий, «Шторм», 1976 г.
В июле 2019 года в Териберке (Лодейное) была открыта памятная доска первому спасательному посту на Мурмане. Открытие памятной доски состоялось в рамках мероприятий, посвященных двойному юбилею спасателей Мурманской области: 370-летию со дня создания пожарной охраны России и 100-летию образования пожарной охраны на Кольском полуострове.

На небольшой памятной доске указано, что на этом месте в 1902 году К. Н. Посьетом была построена первая на Мурмане спасательная станция Имени Императрицы Марии Фёдоровны. К сожалению, авторы этой памятной доски и консультанты не озаботились строгим соблюдением исторических фактов и исказили действительность, а именно: спасательная станция в губе Лодейной была построена на месте, где в последствии будет стоять жилой дом № 11 по улице Комсомольской, или в районе нынешнего отеля «Cedar Grass Териберка», а также перепутали спасательную станцию в Териберке имени императрицы Марии Федоровны со спасательной станцией в Рынде, действительно построенной на средства к тому времени уже покойного адмирала Константина Николаевича Посьета.*
*Брейтфус Л.Л. Очерк организации и первого года деятельности спасательных станций на Мурмане. СПб, 1904. – С. 15.

Местные жители, а также гиды-экскурсоводы кроме того, что в Лодейном располагалась спасательная станция, рассказать, к сожалению, ничего не могут, а у этой важной проблемы конца XIX — начала XX веков довольно длинная предыстория.
Предпосылками создания спасательных станций на Мурмане явились многочисленные факторы, среди которых: сезонный характер промысла рыбы поморами на Мурмане, слабая техническая оснащенность, отсутствие телеграфной связи и конечно же неблагоприятные погодные условия.

Одним из главных катализаторов создания спасательных станций стал шторм в Белом море, который так описывает архангельский губернатор Александр Платонович Энгельгардт: «Страшный шторм, какого не помнят старожилы, разразился над Белым морем в начале сентября 1894 года, как раз в то время, когда поморы возвращались с Мурмана домой и на Маргаритинскую ярмарку в Архангельск, везя с собой добычу промысла. Этот шторм показал, насколько поморы опытны в мореплавании: несмотря на первобытную постройку и плохую оснастку их судов, крушение потерпело сравнительно небольшое число судов; всего разбило 16 крупных палубных и 18 беспалубных судов, при чем погибло 52 человека; большинство же судов укрывалось в безопасных местах или продержалось в море».*
* Энгельгард А.П. Русский Север. Путевые записки. СПб, 1897. – С. 44-45.

По случаю вышеуказанного бедствия Императорским Обществом судоходства был образован Комитет для помощи поморам Русского Севера при Санкт-Петербургском отделении Императорского общества содействия русскому торговому мореходству.
Первоначальной целью Комитета была организация помощи семьям поморов, погибших в сентябре 1894 года во время шторма и уже 30 декабря 1894 года высочайшим повелением императора Николая II был разрешен повсеместный в Российской Империи сбор пожертвований. Благодаря успешному сбору, уже к 1897 году были обеспечены пенсиями не только семейства, осиротевшие в 1894 году и последующие годы, но также и ранее этого времени, оказавшиеся в крайне бедственном положении.*
Поморы и промышленники страдали и гибли почти ежегодно от штормов и ненастья: об этом свидетельствуют регулярные отчеты Комитета для помощи поморам Русского Севера.
* Краткий очерк деятельности Комитета для помощи поморам Русского Севера 1894 – 1907 гг. СПб, 1907. – С. 1.

В кратком очерке по материалам, собранным М. В. Келлером и В. А. Радус-Зеньковичем «Весенние промыслы на Мурмане в 1900 году» дается такая характеристика непогоды и её влияние на промысел: «Частая непогода привела к крушению целого ряда промысловых судов. Несчастные случаи были в Восточной Лице, Харловке, Золотой, Рынде, Гаврилово, — трудно назвать становище, в котором, за минувшее лето не было бы несчастий с промысловыми судами. Суда гибли не только в открытом море, но и при входе в становища, таких как в значительном числе последних при входе в губы образовывались песчаные бары, выступающие местами при обсушке как мели. Во время сильных ветров здесь образуются страшные „засеки“, волны ходят положительно горами. В такое время на промысловом судне немыслимо ни войти в становище, ни выйти из него. Вместе с тем резко обнаружилось и полное отсутствие каких бы то ни было спасательных средств. Случалось, что люди стояли на берегу и бессильные помочь, смотрели как проносит мимо них погибающих на залитой шняке…»*
* «К вопросу о мерах для развития колонизаций и морских промыслов на Мурмане в 1900 г.»: сборник статей, Комитет для помощи поморам Русского Севера. – СПб, 1901. – С. 10-11.
В 1902 году «из-за волнений и кое-каких неустройств промысловый сезон дал немало человеческих жертв. В Гаврилово утонули два человека при переезде на лов песчанки. Расстояние от становища до места лова в три версты, но выезд из становища и въезд в него очень трудны. Волнение было настолько значительно, что рабочие не справились в трудном месте и в результате — две жертвы… Два человека утонули и в становище Золотой. Оба утонули на промысле. Волнение при выезде на море было так велико, что и кормщик и рядовые отказывались ехать. Только обещания рукопашных внушений при дальнейшем упорстве и обещания наград (конечно, мелочных) при согласии ехать, заставили рабочих уступить. Авария в Золотой тяжела по своему трагизму и резко подчеркивает крайнюю настоятельность заведения на промысле спасательных ботов. Шняку носило трое суток и только случайно английский корабль заметил её и взял двух оставшихся в живых промышленников. Двое не выдержали мучений и сами утопили себя в загробнице* шняки».*
* Загробница – банка в шняке или её часть, отделенная переборками. Самойлов К.И. Морской словарь. 1941.
* Романов Н.В. Предварительные сведения о рыбном промысле на Мурмане в 1902 году и статистических работах по исследованию промысла. СПб, 1902. – С. 3-5.
Своё видение проблемы в Известиях Архангельского Общества изучения Русского Севера дал и Всеволод Феликсович Држевецкий*:
* Држевецкий Всеволод Феликсович (1875 – 1920) – последний председатель Архангельского Общества изучения Русского Севера; уроженец Феодосии, потомственный полтавский дворянин; Држевецкий слушал лекции в ИСПбУ, а с 1900 года учился в Мюнхене, где и закончил образование (доктор философии), младший зоолог Севастопольской биологической станции, впоследствии житель г. Архангельска. Был участником Мурманской научно-промысловой экспедиции Л.Л. Брейтфуса. В 1910 году в журнале «Известия Архангельского Общества изучения Русского Севера №№ 21-23 подверг жёсткой критике администрацию Мурмана и самого архангельского губернатора за неумение создать подходящую инфраструктуру освоения промысловых объектов. Ратовал за мероприятия охраны наших акваторий от иностранного промысла. В начале советского периода Држевецкий – председатель научно технической секции Архангельского губернского совнархоза. Выступал против «пролетарского» отношения к решению социальных и экономических проблем на Севере. По постановлению АрхГубЧК расстрелян в Холмогорах за «контрреволюционную деятельность». Реабилитирован 22.06.1992 года.
«Только настоящий шторм… может удержать помора от того горячего желания выметать поскорее ярус, которым он весь проникнут. Но вот наживка поймана, крючки наживлены, и помор, наскоро собравшись и сложив снасть и все необходимое в шняку, спешит выехать в море.
…Часто налетающие нередко шквалы заливают шняку и несчастные промышленники, окоченев в холодной воде становятся новой жертвой разыгравшейся водной стихии.
Такая «беспечность» помора часто находит себе объяснение в общей его некультурности и неразвитости, полагающейся на любимое «авось», но нередко эти объяснения этим грустным явлениям нужно искать в человеческом изнурении, какому подвергают себя поморы.
Не в некультурности тут дело, а острой нужде помора и в неорганизованности самих промыслов.
Хотел бы я видеть здесь, на месте в положении поморов тех культурных бесспорно исследователей мурманских промыслов, у которых так легко вырываются обвинения в нерасчетливой жадности и в неразвитости наших промышленников, если они не бросают сразу яруса и вовремя не убираются «восвояси». Вряд ли многие из этих гипотетических ловцов решились бы бросить, «отступиться» от яруса, если бы у них, как у большинства наших промышленников-поморов, там на берегу, за стеной стояла вековая задолженность и нужда.
Не в одной только жадности и некультурности дело.
Разве нет этой жадности и у норвежских промышленников, этого излюбленного многими примера и культурного в противовес нашему помору образца.
Конечно есть.
Но у норвежца есть уверенность, что в трудную минуту из-за острова или из ближайших шхер вынырнет спасательный бот и не даст ему погибнуть…»*.
* Држевецкий В.Ф. Рыбные промыслы Мурмана и его колонизация. Известия Архангельского Общества изучения Русского Севера, № 22, 1910. – С. 13-15.
Фото: Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации
Автор: Игорь Горшенин
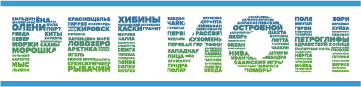
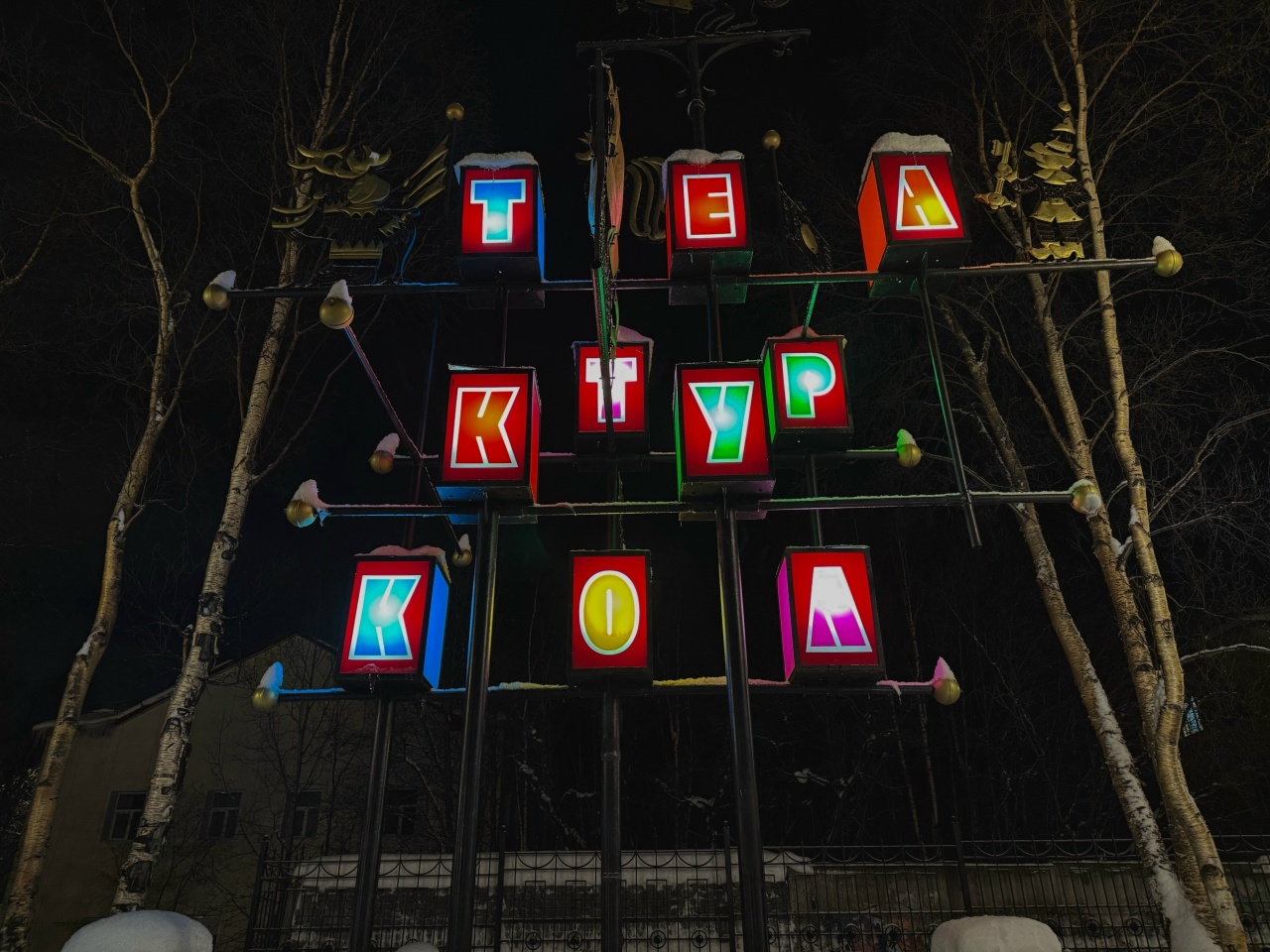









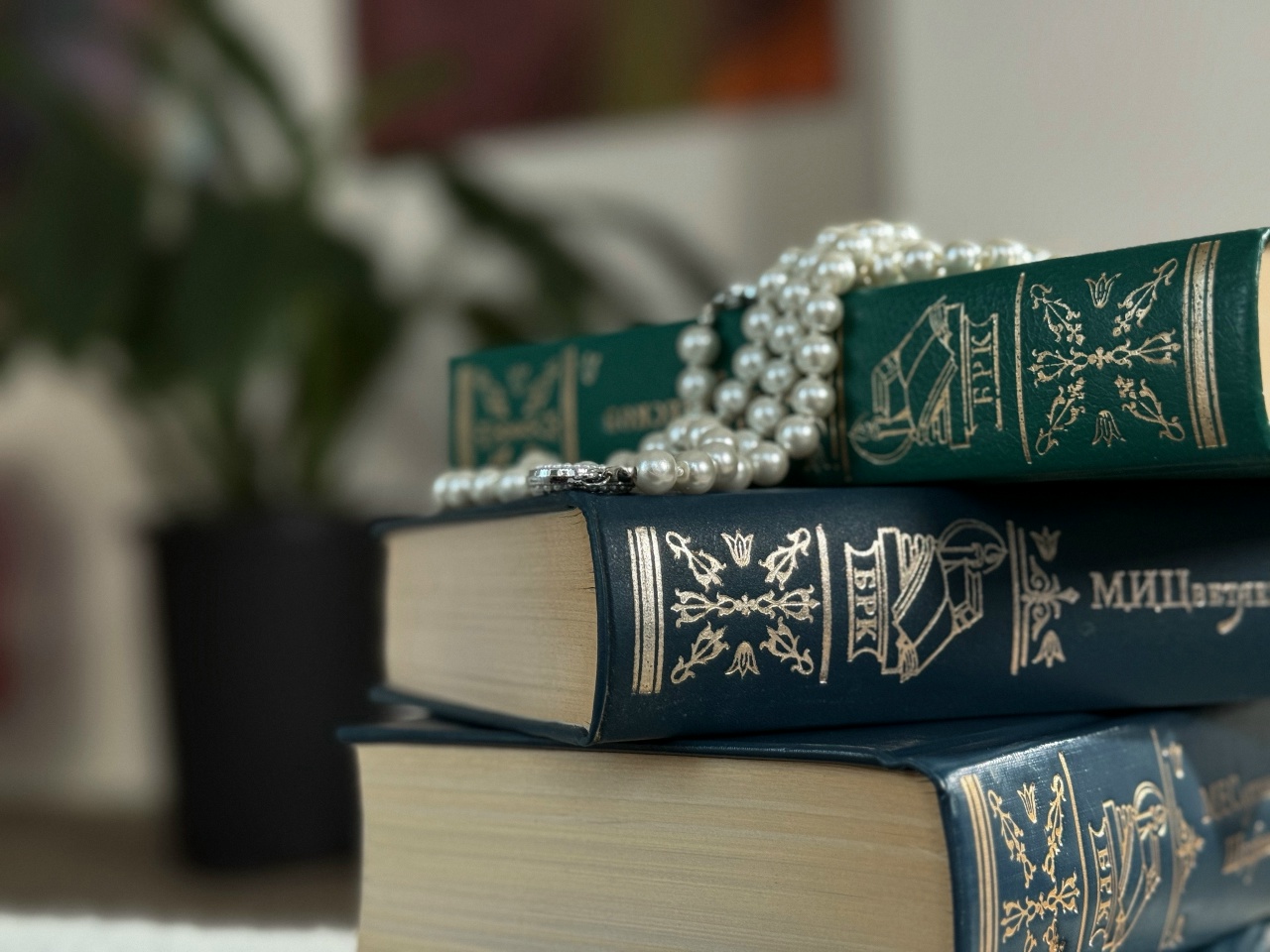





.jpg)



